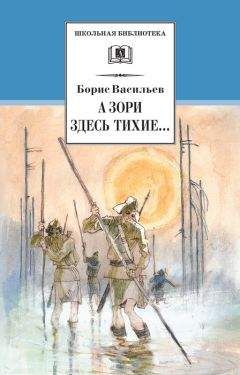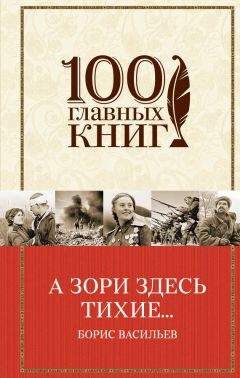Плужников замер. Что-то страшное и беспросветно безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:
Васька-савраска,
Шурка-каурка,
Ванька-буланка,
Сенька-гнедой…
Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света, совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, узнал сразу, несмотря на длинные, свалявшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул навстречу:
– Волков? Вася Волков?
Волков замолчал. Стоял перед ним пошатываясь, тупо глядя безумными, отсутствующими глазами.
– Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников!
– Вася, это же я, я!
– Да очнись же ты, Волков, очнись! – Плужников схватил его за грудь, встряхнул. – Это я, я, лейтенант Плужников, твой командир!
Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промелькнуло в голове Плужникова; спросил он о другом:
– Ты почему ушел тогда, Волков?
Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий необъяснимый ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове.
– Вася, успокойся, Вася.
Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум:
Васька-савраска,
Шурка-каурка…
Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой.
– Хальт! Цурюк!
Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск.
Он не разобрал, попал ли в кого, – хотелось думать, что попал! – смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко всполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдышался в глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и нырнул в свою дыру.
Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго – дольше обычного – стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, понимал, что Волков испугался его – не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова, – но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.
Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него – и замер: впереди, в тускло освещенном каземате, тихонько звучал тонкий девичий голос:
Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня,
В вас столько жизни, столько ласки,
В вас столько неги и огня…
Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим – задумчивым, нежным, девичьим, – был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать.
Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь под облака,
Я дам тебе все, все земное —
Лишь только ты люби меня…
Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку, даже их первую любовь.
Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А потом понял, что хочет заплакать, – и улыбнулся. Слез не было.
Все-таки он звякнул автоматом, и она сразу замолчала. Он шагнул к столу, и Мирра нежно потянулась к нему, потянулась вся – доверчиво, тепло и наивно.
– Сейчас я тебя покормлю. – Она прошла в темноту, к стеллажам. – Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.
– Откуда ты знаешь эту песню?
– Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. Он – замечательный скрипач… – Она засмеялась. – Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.
– Знаю?
– Конечно, знаешь. – Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила. – Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда, представляешь, какой ужас? Боже мой, отчего иногда зависит счастье… Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда…
– Если бы я тогда не захотел есть! – усмехнулся он.
– Или если бы вдруг сел на другой поезд.
– А я и сел на другой поезд, – сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату. – А знаешь, почему я сел на другой поезд?
– Почему? – Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать.
– Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов.
И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула.
– Должно быть, эта Валя – очень хорошая девушка.
– Почему ты так решила?
– Потому что она была в тебя влюблена, – сказала Мирра, полагая, что этой характеристики вполне достаточно. – А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака – это еще не голод. Голод, когда нет хлеба.
– Хлеба? – Плужников достал вычерченную старшиной схему. – Ты не помнишь, где была пекарня?
– Пекарня – за Мухавцом. А вот здесь был продсклад и столовая. – Мирра показала на кольцевые казармы, что шли по берегу Мухавца. – Я ходила туда с тетей Христей.
– Вот где он брал еду… – задумчиво сказал Плужников.
– Кто?
Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:
– Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.
И Мирра не стала расспрашивать.
Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой, и женщины целый день радовались тогда этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его.
Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Как-то Плужников издалека видел, как из развалин, лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы вывели троих без оружия – заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.
– Никакого хлеба, – категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины. – Обойдемся.
– Придется обойтись, – сказал Плужников. – Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, что это они так заметались.
– Обещай, что будешь осторожен.
– Обещаю.
– Нет, ты поклянись! – сердито сказала она. – Скажи: чтоб я так жива была.
– Ну, клянусь.
– Нет, ты скажи!
– Чтоб ты так жива была, – послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх.
В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры, хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник.